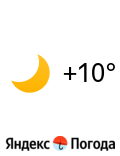Одно из древних тотемских преданий рассказывает о жителе города именем Иосиф и его жене Анне, которые долгое время не могли иметь детей и в течение многих лет усердно молили Бога о даровании им плода чадородия. Наконец Господь, «вселяя неплодовь в дом», внял их молитвам и даровал супругам дитя «мужеска полу». Младенца нарекли Василием и окрестили «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».
 Вид на Тотемский Спасо-Суморин монастырь. Фото 1900-х гг.
Вид на Тотемский Спасо-Суморин монастырь. Фото 1900-х гг.
Однако в скором времени выяснилось непоправимое: ребенок тяжело, неизлечимо болен. «Трясавица», охватившая крохотные члены младенца, не утихала, несмотря на все усилия лекарей облегчить его страдания. Малыш лихорадочно сучил ножками, не в силах найти облегчение своим мукам. День за днем ребенок в изнурительной борьбе с жаром терял силы и, казалось, с каждым часом приближался к безвременной кончине. После тяжелых месяцев борьбы матери, обезумевшей от горя, с симптомами страшного заболевания наступала кратковременная ремиссия, но она прерывалась уже через неделю-другую новыми, еще более яростными приступами мучительного недуга. Борьба с лихорадкой длилась два года.
Дитя причащали и соборовали, оборачивали листьями целебных кустарников, посыпали пыльцой лесных соцветий, поили настоями цельбоносных трав, но все усилия оказывались тщетными, более того – недуг очевидно прогрессировал. Приходской священник, соборовавший маленького Васю за неделю до наступления кризиса, напрямую сказал его родителям, что демон лихорадки, вселившийся в малыша, отказывается покидать утлый сосуд его тленного тела. Последний из приступов болезни был особенно страшен, сопровождался ужасными коликами, сиплыми, старческими вздохами и нескончаемым плачем. «Нет, – пронеслось в сознании усталой матери, – эти муки не могут длиться вечно, когда-нибудь настанет конец». И этот конец теперь, спустя месяцы бесплодной борьбы, уже не казался ей столь страшным, как это было вначале.
Сам Иосиф не мог долгое время слушать звуки плача своего единственного сына; он удалялся на задний двор, и брага помогала несчастному забыть о той боли, которая за многие месяцы иссосала его сердце.
Плач младенца, сопровождавший последний из приступов, в какой-то момент стал затихать, словно звук этот, раздиравший изнутри стены бревенчатой избы, прорывался сквозь стволы сруба и тонул в мутных волнах Песьей Деньги. Минуту спустя ребенок умолк, дыхания его не стало слышно, и все присутствующие решили, что Василий умер. Анна подошла к колыбели и с печальной, но мужественной решимостью отвела в сторону узорный полог. Живой мальчик с недетским взором, исполненным тихого страдания, взглянул на нее, вновь обдавая материнское сердце ноющей болью. Вася вздохнул несколько раз и – вновь зашелся в мучительном крике. Не вполне давая себе отчета в том, что она делает, Анна быстрым движением нагнулась к младенцу, прижала его к груди, бросилась наружу, накинула в сенях теплый зипун и опрометью выбежала из избы.
– Она вне себя от горя, – решила побледневшая свекровь. – Она убьет сына, избавляя его от лишних страданий… Осип, беги, останови ее.
Но когда Иосиф выбежал за женой, ее след простыл, а тучи, затмившие лунный блеск, помешали ему продолжить погоню.
Она знала: свое материнское горе надо выплакать в сердечном челобитье у могилы преподобного Феодосия
Женщина, однако, знала, куда бежит, и в непроглядной тьме безошибочно выбирала верный путь. Проселочная дорога, запорошенная вчерашним снегом, дважды давала небольшого крюку, но Анна отчетливо помнила, что идти надо все время на запад, только на запад. Через полчаса она в изнеможении упала на обочину, давясь сухими рыданиями, вытерла тыльной стороной ладони испарину, выступившую на лице. Несчастная дала волю слезам, которые крупными блестящими жемчужинами скатывались по ее лихорадочно рдевшим щекам; она не плакала уже много дней подряд, ведь слезы не могли принести облегчения ее младенцу, а значит, упоение ими было жестоко и несправедливо по отношению к нему. Впрочем, теперь она рыдала с небывалой горечью: все детское, невинно-беззащитное, ангельски-нежное и так мучительно исстрадавшееся в ее сыне представало ее мысленному взору. Раскрыв ворот зипуна, женщина взглянула на ребенка: мальчик тяжело дышал, крепко прижавшись к ее груди. Она поняла: все, что она сейчас испытывала в душе, надлежало бережно отнести в своем сердечном челобитье Феодосию. Она осторожно поднялась и пошла далее, уже несколько медленнее, словно боясь расплескать охватившее ее чувство благоговейной надежды.
Рассвет встретил путницу у святых врат Преображенского монастыря; дважды ударив железным кольцом в деревянную клеть, Анна перешагнула порог. Она с некоторой робостью прошла вглубь монастырского двора, оправдывая свою дерзость тем страданием, которое привело ее сюда. На паперти Воскресенского собора ее окликнул согбенный годами старец. После недолгого колебания Анна подошла к нему и, то вспыхивая, то угасая, стала что-то рассказывать, пока наконец не показала иноку спрятанного под одеждой сына. Старец слушал незнакомку молча, склонив голову, опустив очи долу, однако когда та замолчала, знаком велел следовать за ним. Минуту спустя они подошли к каменному надгробию, плиты которого упокоили преподобного устроителя монастыря – Феодосия Тотемского.
 Преподобный Феодосий Тотемский
Преподобный Феодосий Тотемский
Анна стала шепотом произносить слова своей молитвы:
– Виждь, старче Феодосие, что сие приключися сыну моему…
Она бросила косой взгляд сначала в сторону гробницы, а после на младенца, словно призывая преподобного воочию убедиться в справедливости ее слов.
– Се бо во двою лету страждет Василие боле, нежели мощно терпети. И несть ми боле воли зрети его мучения, се бо, яко мати, чадолюбица сущи… – Анна подавилась рыданием.
Она стала говорить громче, с силой, отчетливо и даже на распев произнося каждое слово:
– Аще ти мощно есть, отче, умоли Христа Бога, да бых аз приняла муку про сына моего. Увы мне, чадо мое драгое Василие! Свете очию моею! Откуду тебе прииде злая немощь сия, и камо денуся, зрящи тебе в немощи сей боляща?
Рыдания росли, как снежный ком…
– За многия грехи наша казни сия и немощи наводит на нас Христос Бог. Аще не ты нам поможеши, святый угодниче Христов, преподобне Феодосие, что сотворю аз? Како имам от тебе отити?
Мать еще судорожно шептала слова молитвы, а Василий уже улыбался – все шире, все радостнее
Обессилев от слез, Анна скорбно припала к каменному полу гробницы, но еще долго, громко всхлипывая, повторяла слова молитвы. Минуту спустя ветер, ворвавшийся в клеть, взметнул под притолокой морозное покрывало снежинок, негромко пропел какую-то ноябрьскую песнь, и бледное покрывало опало с тихим шорохом на женщину и ее сына. Снежная звездочка, упавшая на щеку младенца, медленно таяла, и мальчик впервые за много месяцев улыбнулся. Мать все еще судорожно шептала слова молитвы, припав к полу, а Василий уже улыбался – все шире, все радостнее, пока наконец не рассмеялся, громко, весело, как, может быть, смеялся, впервые в жизни. Анна молча и трепетно восклонилась…
Молва сохранила еще одно предание – о девице по имени Иустина. Эта девочка родилась недалеко от Тотьмы, в Фетинской веси. Родилась зрячей, живой и веселой, и даже пять долгих мрачных лет слепоты не смогли стереть из ее памяти ни яркую, бездонную голубизну неба в день июльского сенокоса, ни мельчайшие изгибы линии горизонта, когда она, прячась от проливного дождя под одиноким дубом, медленно обводила любопытным взглядом далекую кайму синеющего леса, восточный косогор, овраг с высохшим ручьем и смутные очертания родной деревеньки.
Вся красота мироздания поблекла для Иустины одним днем, без предупреждения, без опасных звоночков, предвещающих близость надвигающейся опасности. Однажды, увидев на стволе высокой липы пушистый беличий хвостик, Иустина решила взобраться на дерево, чтобы ближе познакомиться с лесной зверушкой. Мгновение спустя она уже залезла на нижнюю ветку, потом выше, еще выше. Однако в тот момент, когда любопытная уже протягивала руку к мохнатой беличьей спинке, сук, на котором она сидела, обломился и девочка упала вниз. Удар был столь силен, что Иустина лишилась чувств, сломала несколько ребер, но главное – потеряла зрение. Ее нашли несколько часов спустя и за руку привели домой, к матери.
Отец Иустины умер за несколько лет до того, и мать, вынужденная с тех пор работать на чужие семейства, чтобы прокормить себя и дочь, не имела возможности водить девочку за руку, знакомя ее с прекрасным, неведомым миром, и поэтому непроглядная тьма, окружившая Иустину, имела ужасающий, внушающий чувство всецелой беспомощности характер.
Прошло пять лет, когда однажды мать Иустины, услышав от своих односельчан о чудесах, которые творит своей молитвой Феодосий Тотемский, велела дочери молиться преподобному и сама стала собираться в путь – в обитель Святого Преображения.
В монастыре женщина упросила игумена дозволить ей остаться ночевать у гроба Феодосия вместе с дочерью, а ночью благочестивая вдова стала усиленно молиться, читая псалмы и воспевая хвалебные пения. Звуки материнского голоса быстро усыпили Иустину, и она заснула сладким, золотым сном.
Видела Иустина, как спешил старец помочь тому, кто более другие изнемогал в послушаниях
Во сне Иустина видела (в том и заключалась последние пять лет необычайная прелесть сна, уравнивавшего ее со зрячими) святолепного старца, который ходил по монастырскому двору, наведываясь в различные службы: он молол хлеб вместе с мукомолами, носил воду с водоносами, вскапывал грядки с земледельцами и всякий раз спешил помочь тому из братьев, который более, нежели другие, изнемогал в послушаниях. Иустина не смела окликнуть старца и попросить его об исцелении, однако следила за каждым его движением с затаенной радостью и восхищением.
Когда солнце скрылось за лемехами Преображенского храма, старец, словно желая опочить от дневных трудов, направился в сторону гробницы, где и ждала его Иустина. Казалось, только теперь Феодосий увидел отроковицу, прислонившуюся к стене гробницы и молча ловившую каждый его жест. В это мгновение он откинул широкий рукав мантии, и Иустина увидела, что в руке он держал дорогой светящийся сосуд. Она сама подошла к старцу, и он окропил ее очи святой водой. Во сне ничего не переменилось, лишь старец благословил ее и скрылся за мраморными плитами надгробия. А девушка все так же сидела, прислонившись к стене, широко раскрытыми глазами впитывая мягкий бархат монастырской ночи.
Потом стало светать, а ей все мнилось, что это ей снится. Потом проснулась и протерла смеженные усталостью очи ее мать. Трудолюбивая женщина приподнялась, опираясь на локоть, и любопытным, все еще сонным взором взглянула в лицо дочери. «Какой долгий, какой удивительный сон!» – представилось Иустине и на этот раз. Она еще долго отказывалась верить, что все, что она видит, – не сон, не мираж и не морок, и потому боялась радоваться и не спешила обнимать мать, молча осенявшую широкими взмахами руки крестом то себя, то исцеленную дочь. Однако на сей раз это был не сон, не иллюзия и не игра воображения. Это было – обыкновенное чудо, которые во множестве совершал Феодосий Тотемский.
Действительно, у гробницы преподобного прояснялись очи слепых, отверзался слух глухих, с нечеловеческими воплями покидали бесноватых духи злобы и отходили от страдальцев недуги, еще вчера грозившие им неминуемой смертью. Все это было даром Божиим старинной Тотьме, в область которой пришел некогда Феодосий – один из верных учеников преподобного Димитрия Прилуцкого, вологодского чудотворца.
Феодосий родился в Вологде, в семье благочестивых христиан Иулиана и Евдокии и, еще «юн сый телом, старец многолетных разумом превзыде». Отроческие игры и веселые собрания сверстников внушали юноше недоуменную печаль; раз или два оказавшись волею случая на дружеском пиру, Феодосий чувствовал себя чужим среди своих. Однако было бы ошибочно считать его одиноким: «свои» ждали его каждый вечер и каждое утро в стенах вологодских божниц и тихим взором заглядывали в сокровенные уголки его молодой души, зовя вслед за собой по дороге христианского совершенства. При этом юноша был воспитан в благом повиновении воле родителей, которые настояли на его женитьбе.
Впрочем, женитьба мало переменила Феодосия; как и прежде, сердце его оставалось вблизи церковных алтарей, а душа более внимала церковным славословиям, нежели суетной молве мира. Скорая смерть родителей и молодой супруги развязала праведнику руки – Спасо-Димитриева Прилуцкая обитель раскрыла свои врата перед молодым вдовцом. Игумен, прозрев в Феодосии избранный сосуд Божественной благодати, принял его в обитель, отдав на послушание к одному из опытных старцев. Подвижническая жизнь инока в стенах обители пострига изумила многих насельников: строгий пост Феодосия сочетался с самоотверженным трудом на самых тяжелых послушаниях, но и после изнурительных дневных трудов инок с благоговением прибегал к гробнице преподобного Димитрия, «моляся со слезами, подражая путешествовати стопам его».
А когда разжигали пламя для вываривания соли, Феодосий, стоя неподалеку, вспоминал о геенском огне
Шли годы, авторитет Феодосия в глазах священноначалия рос, и, когда игумену понадобилось послать в Тотьму на разработку соляных промыслов одного из рассудительных и хозяйственных иноков, выбор пал именно на него. По приказанию Феодосия в предместьях Тотьмы была пробурена соляная скважина, преподобный нанял работников и сам лично руководил всеми делами. Вываривание раствора требовало большого количества дров, и Феодосий вместе с обычными тружениками рубил лес, складывал поленницы, а, когда разжигали пламя для вываривания соли, становился неподалеку, вспоминая о геенском огне, который ждет нераскаянных грешников в будущем веке. Кротость и смирение преподобного к работникам соляного промысла было беспримерным: «они же, видевше добродетельное его житие, не яко человека, но яко ангела Божия посреде себе имяху».
Однако ответственное послушание нарушало безмолвие инока, привычка к которому сложилась за те годы, которые он провел в обители святого Димитрия. Главное было сделано – соляной промысел, этот зарок экономического благосостояния обители, был налажен, и теперь оставалось только поддерживать начатое. Феодосий испросил у игумена благословение удалиться в пустынь, чтобы сосредоточиться на молитве и богомыслии.
 Тотемский Спасо-Суморин монастырь. Фото 2015 г.
Тотемский Спасо-Суморин монастырь. Фото 2015 г.
Он нашел место недалеко от самой Тотьмы между двумя реками – Ковдой и Песьей Деньгой, окруженное с обеих сторон холмами, поросшими лесом. Здесь, в междуречии, преподобный устроил первую хижину, а чуть позднее выкопал пещеру «зимнаго ради пребывания». Год спустя Феодосий выстроил и первую келью, к порогу которой окрестный люд в скором времени протоптал верную тропинку. «Преподобный же Феодосий, беседуя с ними о пользе душевней, отпущаше их в домы своя».
Здесь, в междуречии Ковды и Песьей Деньги, Феодосий менее, чем когда-либо, давал «сон очима, веждома дремание и покой скраниама». Эти благословенные месяцы и годы уединенной молитвы были тем временем поиска «места селения дому Бога Иаковля», на которых потом строилось благоденствие обители Святого Преображения. В скором времени ходатайством тотьмичей было получено государево благословение на устроение новой обители и освящение ее соборного храма: «и вскоре постави церковь, и трапезу, и келии по чину монастырскому, способствующим ему гражданом, братиям же множащимся, обитель его исполняшеся всякими изобилии».
Последние пятнадцать лет своей жизни Феодосий провел в стенах основанной им обители. Несмотря на належащую старость, преподобный не только не ослабил трудов и подвигов молитвы и всенощных стояний, но и возложил на себя тяжкие вериги, предварительно облекшись в жестокую власяницу, острые иглы которой немилостиво прободали его тело. Обо всем этом изумленная братия узнала лишь после его смерти, благоговейно скутывая его многотрудное тело.
Перед смертью преподобный собрал иноков для последнего поучения и, благословив каждого, завещал им мир, любовь и единение. Совсем скоро старец, «еще молитве сущи во устех его, с миром предаде святую свою душу в руце всех Бога». Однако Феодосий уходил, оставляя после себя не только храмы и их богатое убранство, но и драгоценную память о своем подвиге, он становился тем звеном в нескончаемой цепи из поколения в поколение передаваемого духовного опыта, которая объединяла во едином полку разрозненное во времени и пространстве воинство Небесного Царя.
Преподобный уходил не навсегда, он уходил, чтобы вернуться позднее и исцелить умирающего младенца Анны, чтобы даровать зрение Иустине и вселить надежду в души многих несчастных, с верою прибегавших к его молитвенному заступлению. Ведь там, где звучала когда-то теплая молитва православного инока, Христос, призирая на прошения своего преподобного, отымает всякую слезу от лица страждущих, а черный клобук и монашеские четки становятся тем залогом жертвенной любви инока к миру и его немощам, которая сулит сирым и убогим избавление от страданий.
 Возвращение мощей преподобного Феодосия Тотемского в Спасо-Суморин монастырь. 15 сентября 2016 г.
Возвращение мощей преподобного Феодосия Тотемского в Спасо-Суморин монастырь. 15 сентября 2016 г.